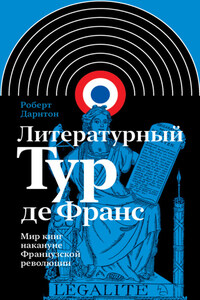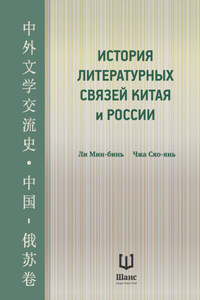Где в киберпространстве север?1 В неизведанных просторах за пределами галактики Гутенберга мы вынуждены обходиться без компаса, и дело не только в картах или технологиях. На заре интернета киберпространство казалось открытым и свободным. Теперь в нем чертят границы, ведут бои и возводят стены2. Люди, жаждущие свободы, надеялись, что электронные коммуникации обойдутся без ограничений, но эти ожидания были наивны. Кто добровольно откажется от пароля к своей электронной почте или отключит фильтр, защищающий детей от порнографии, или оставит свою страну беззащитной перед кибератаками? Но Великая китайская стена сетевой защиты и неограниченная слежка со стороны Агентства национальной безопасности доказывают, что власти ставят свои интересы выше интересов простых людей. Дали ли новые технологии новые инструменты, которые помогут воле государства перевесить права его граждан? Возможно. Но не стоит думать, что такого никогда не бывало в прошлом. Чтобы до некоторой степени понять текущую ситуацию, мы должны изучить все попытки государства контролировать средства коммуникации. Эта книга призвана показать, как выглядели такие попытки, причем в конкретные периоды и в конкретных местах, так что их можно исследовать во всех подробностях. Это история скрытого, ведь такое «расследование» приводит в закрытые кабинеты и к секретным заданиям, исполняя которые, государственные служащие надзирали за словом, допуская или не допуская книги в печать или запрещая их уже после публикации.
История книгопечатания и попыток его контролировать не откроет методов, которые можно напрямую применить к процедурам контроля над цифровыми коммуникациями. Ее важно изучить по другой причине.
Показывая с изнанки работу цензоров, такая история дает понять, как мыслят создатели подобных стратегий, как государство оценивает угрозу своей монополии на власть и как пытается бороться с этими угрозами. Сила печатного слова может представлять не меньшую опасность, чем кибератака. Как ее определяли государственные служащие и какими соображениями руководствовались в своих действиях? Ни один историк не может влезть в голову мертвому человеку, да и живому, раз уж на то пошло, хотя последний может дать интервью для исследования по современной истории. Но с помощью документов возможно определить общий характер мышления и поведения цензоров. Архивы редко предоставляют нужную информацию на эту тему, ведь цензура работает тайно, а тайны, как правило, остаются нераскрытыми или утерянными. Однако, собрав необходимое количество свидетельств, можно догадаться о неявных предпосылках и подспудном вмешательстве чиновников, отвечавших за контроль над печатью. И тогда уже можешь почерпнуть гораздо больше сведений. Появляется возможность понаблюдать за работой цензоров, проверяющих текст строчка за строчкой, или проследить за полицейскими мерами против запрещенных книг, за тем, как упрочиваются границы между законным и незаконным. Эти границы необходимо обозначать, ведь они были зачастую нечеткими и нередко менялись. Где проходит черта между Кришной, заигрывающим с доярками, и недопустимым эротизмом в бенгальских книгах или между соцреализмом и «позднебуржуазной» литературой в коммунистической Восточной Германии? Подобные концептуальные разграничения интересны сами по себе и важны ввиду их влияния на практические действия. Запрещение книг – различные меры, попадающие в категорию цензуры после публикации, – показывает, как государство боролось с литературой на улицах. Эта борьба позволяет историку заглянуть в жизнь отчаянных людей, сомнительных личностей, действовавших вне рамок закона.
На этом этапе исследование дает ощутить радость настоящей охоты, ведь полиция – или ее аналог, в зависимости от характера правления, – имеет дело с человеческими типами, редко попадающими в книги по истории. Бродячие музыканты, изворотливые торговцы-разносчики, мятежные проповедники, купцы-авантюристы, писатели всякого рода, знаменитые и неизвестные, включая поддельного свами и наживающуюся на скандалах горничную, даже сами полицейские, иногда переходившие на сторону своих жертв, – все они встречаются на страницах этой книги рядом со всевозможными цензорами. Мне кажется, такие детали человеческой жизни сами по себе заслуживают внимания, но, пересказывая истории настолько точно, насколько возможно, без искажений и преувеличений, я хочу достичь большего – создать историю цензуры нового типа, который был бы одновременно сравнительным и этнографическим.
За исключением выдающихся мастеров вроде Марка Блока, историки призывают к сравнительным исследованиям куда чаще, чем проводят их3. Это трудоемкий жанр не только потому, что для него нужно свободно владеть материалом из разных изучаемых областей на разных языках, но и потому, что он перенимает у сравнения все его недостатки. Яблоки с апельсинами еще можно не перепутать, но как изучать два учреждения, которые выглядят одинаково или носят одно название, но действуют по-разному? Человек, которого называют цензором в одной системе, может действовать согласно таким правилам игры, которые будут совершенно недопустимы для цензора в другой. Да и сами игры будут разными. Даже представление о литературе в некоторых культурах обладает гораздо большей значимостью, чем в других. В советской России, как сказал Александр Солженицын, литература была столь могущественна, что «могла ускорить историю»